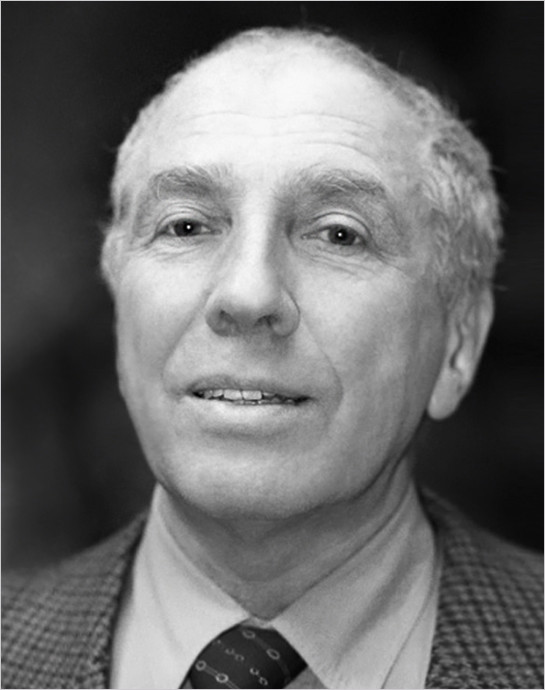|
|
Сергей ЮрскийЛ.Ф. Лосев. О Раневской. М., 1988. Раневская приезжает на спектакль рано. И сразу начинает раздражаться. Громогласно и безадресно. Ей отвечают — тихо и робко — дежурные, уборщицы, актеры, застрявшие после дневной репетиции, — они не могут поверить, что великолепное звучное «Здравствуйте!!!» относится к ним. Раневской кажется, что ей не ответили на приветствие. И лампочка горит тускло. А на скрещении коридоров — другая — излишне ярко. Ненужная ступенька, да еще, как нарочно, полуспрятанная ковровой дорожкой. Раневская раздражается. Придирается. Гримеры и костюмеры трепещут. Нередки слезы. «Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет!» — гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Надо зайти. Как режиссер, я обязан уладить конфликт — успокоить Фаину Георгиевну и спасти от ее гнева, порой несправедливого, несчастную жертву. Но я медлю. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страшно. Наконец, натянув на лицо беззаботную улыбку, я вхожу к ней. — Я должна сообщить вам, что играть сегодня не смогу. Я измучена. Вы напрасно меня втянули в ваш спектакль. Ищите другую актрису. Я целую ей руки, отвешиваю поклоны, говорю комплименты, шучу сколько могу. Но сегодня Раневская непреклонна в своем раздражении. — Зачем вы поцеловали мне руку? Она грязная. Почему в вашем спектакле поют? У Островского этого нет. — Но ведь вы тоже поете... и лучше всех нас. — Вы еще мальчик, вы не слышали, как поют по-настоящему. Меня учила петь одна цыганка. А вы знаете, кто научил меня петь «Корсетку»? — Давыдов. — Откуда вы знаете? — Вы рассказывали. — (Грозно.) Кто? — Вы. — Очень мило с вашей стороны, что вы помните рассказы никому не нужной старой актрисы. (Пауза. Смотрит на себя в зеркало.) Как у меня болит нос от этой подклейки. — Да забудьте вы об этой подклейке! Зачем вы себя мучаете? — Я всегда подтягиваю нос... У меня ужасный нос... (Пауза. Смотрит в зеркало.) Не лицо, аж... Ищите другую актрису. Я не могу играть без суфлера. Что это за театр, где нет суфлера?! Я не буду играть без суфлера. — Фаина Георгиевна, и я, и Галя, мы оба будем следить по тексту. — Вы — мой партнер, а Галя — помреж. Суфлер — это профессия!.. Не спорьте со мной!!! И мне подали не тот платок, эта девочка очень невнимательна. — Это ваш платок, Фаина Георгиевна. — Нет, не мой! Я ненавижу такой цвет. Как называется такой цвет? Я совершенно не различаю цвета. Что это за театр, где директор никогда не зайдет, чтобы узнать, как состояние артистов! Им это, наверное, неинтересно. А что им интересно? В дверях появляется внушительная фигура директора театра. — Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Раневская подскакивает на стуле от неожиданности. — Кто здесь? Кто это? — Это я, Фаина Георгиевна, Лев Федорович Лосев. Как вы себя чувствуете? — Благодарю вас, отвратительно. Вы знаете, что в нашем спектакле режиссер уничтожил суфлерскую будку? И я вынуждена играть без суфлера. — Фаина Георгиевна, у нас в театре вообще нет суфлерской будки. — А где же сидит суфлер? — У нас нет суфлера. Но Сергей Юрьевич мне говорил, что Галя... — Сергей Юрьевич — мой партнер, а Галя — помреж... Суфлер — это профессия (и т. д.). Но я благодарю вас за то, что вы зашли. Теперь это редкость... Вот он, мой платок. (Она начинает надевать тот самый платок, что подали вначале.) Странное время. Суфлерской будки нет, пьес нет, времени ни у кого нет, а зрительный зал полон каждый вечер. За десять минут до начала Раневская выходит из гримерной. Заглядывает ко мне. — Почему горит свет, а никого нету?! Какая небрежность! — Я здесь, Фаина Георгиевна. Я гримируюсь. — Извините, я вас не увидела. Ой, тысячу раз извините, я помешала творческому процессу. На сцену ее сопровождает специально прикрепленный к ней помреж — опытнейшая Мария Дмитриевна. Она действует успокаивающе. Раневская сидит за кулисами на выходе и читает свою роль. Мария Дмитриевна машет веером. Я хожу по сцене, проверяю, все ли на месте. Шумит зал за занавесом. — Дайте руку. Видите, какая у меня холодная рука. Л у вас теплая. Я вам завидую. Вы совсем не волнуетесь перед выходом? Я всегда волнуюсь, как дура. Л знаете отчего это? Оттого, что я скромная. Я не верю в себя. Я себе не нравлюсь. — Зато другим нравитесь. — Кому? — Вы всем нравитесь. — Это неправда... Я плохо играю эту роль. — Вот это — неправда. Вы замечательно играете. — Может быть, я просто нравлюсь вам как женщина? — Это само собой. — Очень галантно... Ммм!! Мы с Марией Дмитриевной помогаем Раневской встать со стула. Слышны команды к началу. Подошла и робко встала рядом Г. Костырева — партнерша Фаины Георгиевны по первому диалогу. Зал за занавесом стихает. Раневская проборматывает начальные слова роли. Пробует жест. «Яблоки, яблоки, яблоки! — кричат торговки. — Моченые яблоки! Яблоки хорошие! Хорошие яблоки!» Колокольный звон. Сцена заливается светом. Смотрю на Раневскую, и страшно за нее. Кажется, она упадет при первом самостоятельном шаге. Ее надо вести под руки, как вели мы ее только что. Но она уже не народная артистка, а нянька Филицата. И некому помочь ей. Она сама всем вечная помощница и защитница. Колокольный звон усиливается, растет. Черная щель разрезала занавес. Щель увеличивается, открывается громадное пространство зрительного зала. И... вместо черноты — ослепительный свет прожекторов. Костырева пошла по диагонали к авансцене: «Что ты мне сказала? Что ты мне сказала?» Раневская (уже не Раневская, а кто-то другой, с другим лицом, с утиной походочкой враскачку, с глазами, уставленными в пол, с указующим перстом вытянутой руки) тронулась вслед — на сцену. И — сразу — овация! — Зачем? Зачем они хлопают? Они любят меня? За что? Сколько лет мне кричали на улице мальчишки: «Муля, не нервируй меня!» Хорошо одетые надушенные дамы протягивали ручку лодочкой и аккуратно сложенными губками вместо того, чтобы представиться, шептали: «Муля, не нервируй меня!» Государственные деятели шли навстречу и, проявляя любовь и уважение к искусству, говорили доброжелательно: «Муля, не нервируй меня!» Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать. Мне трудно видеть людей. Потому что все, кого я любила, кого боготворила, умерли. Столько людей аплодируют мне, а мне так одиноко. И еще... я боюсь забыть текст. Пока длится овация, я повторяю без конца вслух первую фразу: «И всегда так бывает, когда девушек запирают», — на разные лады. Боже, как долго они аплодируют. Спасибо вам, дорогие мои. Но у меня уже кончаются силы, а роль все еще не началась... «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Пет, не так. Я не умею говорить одинаково. Я помню, как выходили под овацию великие актеры. Одни раскланивались, а потом начинали роль. Это было величественно. По я не любила таких актеров. А когда овацию на выход устроили Станиславскому, он стоял растерянный и все пытался начать сквозь аплодисменты. Ему мешал успех. Я готова была молиться на него. «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нянька добрая... Она любит свою воспитанницу, свою девочку. А на бабушку нянька злится — зачем запирает внучку... Поликсену... дорогую мою... «И всегда так бывает, когда девушек запирают». Нянька раздражена. Пли это я раздражена? «Муля, не нервируй меня!» Я сама выдумала эту фразу. Я выдумала большинство фраз, которые потом повторяли, которыми дразнили меня. В сущности, я сыграла очень мало настоящих ролей. Какие-то кусочки, которые потом сама досочиняла. В Островском нельзя менять ни одного слова, ни одного! Я потому и забываю текст, что стараюсь сказать абсолютно точно, до запятой. А суфлера нет. А все кругом говорят бойко, но приблизительно. Не ценят слова. Не ценят слово. Не ценят Островского. И всегда так бывает, когда меня нервируют... Муля! Не запирай меня! Всегда так бывает. А если бы Раневская вышла на сцену, как все обычные актеры, в нормальной заинтересованной тишине? Что было бы? Наверное, не было бы спектакля. Это могло значить только, что зал пуст, никого нет в зале. Последние двадцать лет, если не больше, она начинала свою роль (любую!) только после овации. Дружные аплодисменты благодарности. Просто за то, что видим ее! За все, что уже видели. И вот она с нами. И ничего больше не надо! — «Как не надо? А играть? А спектакль? А моя роль?» — Не надо, не важно, браво, браво! Почти абсурдная двойственность! Как будто перед началом романа стоит жирная точка и слово «конец». И все-таки... все-таки, когда так встречают актрису, когда такой единый порыв, — это праздник. Почти забытый, будоражащий праздник театра. Первая сцена очень трудная. Как ни разрабатывай действенную структуру, а Островский писал чистую экспозицию, давал «вводные данные». Современные актеры разучились играть спокойно-разъяснительные прологи, а современные зрители разучились их смотреть. Раневская всегда мучилась с этой сценой. Кроме всего, после такого приема ей сразу хотелось ответить чем-то необыкновенным. А ничего необыкновенного в сцене нет. Она дробила сцену на маленькие кусочки и играла, пробуя разные контрастные краски — и голосовые и мимические. Кусочки бывали изумительные. Зыбкина рассказывает о своих бесконечных несчастьях и потом про сына — вот от всего этого и вышел он «с повреждением в уме». Необыкновенно заинтересованно и как-то величаво замерев, Раневская спрашивала, говоря врастяжку: «Какого же роду повреждение у него?» — «Всем правду в глаза говорит». И, понимая серьезность такого «вывиха сознания», Филицата, мудро покачивая головой, произносила как диагноз, печально утверждая: «В совершенный-то смысл не входит». В финале десятиминутной сцены Раневская, устав и предвидя близкий отдых за кулисами, играла легко, лукаво, без напряжения, скинув наконец-то груз ответственности. На уход она пела: «Корсетка моя...» Я был против этого пения — чисто гастролерская добавка. К тому же мне казалось, что «Корсетка», спетая единственный раз в конце спектакля, должна потрясать неожиданностью. Убедить в этом Раневскую я не смог. Почти всегда на уход Раневская пела. Пение заглушали аплодисменты. Почти всегда. Когда их не было (один-два раза за два года), Раневская впадала в молчаливое отчаяние. Это жуткий контраст — овация на выход и уход в тишине, «под стук собственных шагов», как говорят в театре. К себе в гримерную Фаина Георгиевна не поднимается. Весь спектакль сидит на сцене в кулисах. Учит роль по тетрадке. Изливает на Марию Дмитриевну свои обиды. Все вслух. Кашляет, жалуется на сквозняк, на духоту. Бывает, голос ее слышен на сцене. Когда он звучит совсем уж громко, я бегу к ней, умоляюще складываю руки на груди, а потом показываю на уши — слышно, слышно вас! Она сперва не понимает, потом пугается, закрывает рот руками. Через несколько минут ее снова слышно. Раневская не могла выйти на сцену сама. Ее нужно было «выпускать». Суфлера она уступила, но эту традицию старинного русского театра сохранила. Помреж должен тронуть за плечо и сказать: «Ваш выход» или просто и грубо: «Пошла». И тогда... пошла. И так на каждый выход. А их в «Правде...» у Филицаты десять. Мария Дмитриевна блестяще исполняла роль помрежа XIX века. Вот она растирает мерзнущие руки актрисы, вот машет на нее веером. Утешает, шепотом ободряет. Потом властно говорит: «Приготовились!» Помогает встать со стула. И — на равных, по-деловому, приказательно — «Пошла!» Бежит! Бежит через всю сцену Раневская. «Ай, что он тут наделал-то! Что натворил! На-ка, хозяевам в глаза так прямо... Что ты, что ты? Опомнись! Тебя хотят за енарала отдавать...». (О, как она произносит этого «енарала» — это куда больше и невероятнее, чем «генерал»!) «На что он тебе? Он тебе совсем не под кадрель». Мощно звучит у Фаины Георгиевны, каждое необычное словечко Островского. Поликсена сует няньке в руки деньги: «Поди, купи мне мышьяку!» Отшатнулась нянька, вздрогнула всем телом... раз, другой. Застонала. Как-то странно взревела басом. Повернулась к зрителям. Она одна на сцене. И в ней все. Не забыть. Этот полуоткрытый рот. Беспомощная рука, и в ней страшный рубль, данный для покупки отравы. И не идут, долго не идут слова. Только звуки. И, наконец: «Ай, погибаю, погибаю». Лучшее, великолепнейшее, что было в этой комической роли, — трагические всплески. И для трагедии была создана Раневская, и для трагедии тоже. Думаю, что это ее жанр, но она почти никогда не играла его в чистом виде. Только отдельные мгновения. Так и здесь. Одно мгновение. Какой-то стон и два слова. И потом фраза: «Вот когда моей головушке мат пришел». Это уже снова забавно, жанрово, комично. Занавес, конец акта. Всегда ли так? Всегда не так! Иногда — нарочито скрипучим голосом: «Погиба-а-ю!» — давая понять, что такое страшное слово на пустом месте — не от чего тут погибать, то есть — как положено в комедии. Иногда по-другому. Иногда еще как-нибудь. Но однажды (или все-таки много раз?) — это трагическое полнозвучие. Его-то и не забыть. В нем-то и суть. — Я не могу без партнера. Партнер для меня — это все. Я не могу без общения. Я должна видеть глаза. Но случается, что в этих глазах я вижу вульгарность или даже хамство. Я теряюсь, не могу играть. Я завишу, целиком завишу от партнера. Дорогая моя, куда вы смотрите? Смотрите на меня. Товарищ режиссер, можно, я буду держать ее за руку и притягивать к себе? Я плохо вижу... Еще ближе... — Фаина Георгиевна, но ведь и зрители хотят вас видеть. Сейчас видим просто два чепчика, два затылка. Откройтесь, пожалуйста. Как хорошо, когда вы смотрите на нас. — Я не умею играть на публику. Я должна говорить в глаза партнеру. — «На публику» — не надо, но все-таки для публики. — Я потому перестала сниматься в кино, что там тебе вместо партнера подсовывают киноаппарат. И начинается — взгляд выше, взгляд ниже, левее, подворуйте. Особенно мне нравится «подворуйте». Сперва я просто ушам не поверила, когда услышала. Потом мне объяснили — значит, делай вид, что смотришь на партнера, а на самом деле смотри в другое место. Изумительно! Представляю себе, если бы Станиславскому сказали: «Подворуйте, Константин Сергеевич!» Или Качалову... Хотя нет... Качалов был прост и послушен. Он был чудо. Я обожала его. Он, наверное, сделал бы, как его попросили... Но я не могу «подворовывать». Даже в голод я не могла ничего украсть: не у другого — помилуй бог! — а просто оставленного, брошенного — не могла взять чужого. Ни книги, ни хлеба... и взгляд тоже не могу украсть... мне нянька в детстве говорила: чужое брать нельзя, ручки отсохнут. Я всегда боялась, что у меня отсохнут ручки. Я не буду «подворовывать»... — И не надо. Не об этом речь. Но ведь и в жизни мы довольно редко говорим, уставясь в глаза друг другу. Это исключение. Обычно наш взгляд перемещается. Мы оглядываем пейзаж, интерьер, или, как говорится, «блуждаем взглядом», или смотрим в одну точку, или заглядываем внутрь себя. — Это понимаю... говорит сама с собой... Рядом сидит другой человек, а она говорит сама с собой. Это возможно... Сумасшедшая старуха сидит в беседке и говорит сама с собой... это нормально. Раневская проигрывает кусок сцены, показывая раздвоение личности. Очень смешно. Потом играет (именно играет, а не рассказывает) случаи, старые анекдоты на тему «склероз» и «маразм». Это так точно, так обаятельно при всей гиперболичности, что ничего не хочется делать — только сидеть и смотреть, смотреть на это без конца. — Давайте попробуем еще раз, — говорю я. — Как хорошо видеть ваше лицо — прямо на нас, в фас. Тогда все доходит — и глаза, и мимика, и вся игра... — Я не играю, я живу на сцене! — грозно кричит Раневская. — Пожалуйста, с самого начала! Она хватает партнершу за руку, близко притягивает ее к себе. Говорит почти вплотную. Лицом к лицу. И лица не увидеть. Фаина Георгиевна никогда не концертировала соло. Никогда не выходила на сцену одна, хотя массу всего знала наизусть и дома читала великолепно. У нее действительно была какая-то абсолютная необходимость в партнере. Все, что в фас, все, что прямо в зал, ей казалось нескромным, недопустимым. Все, что в профиль, освобождало от груза ответственности и давало импульс к игре. Но Раневская остро и очень профессионально чувствовала реакцию зала, великолепно ощущала приливы и отливы внимания. Зал нужно «взять» — значит «отпустить» партнера и направить энергию прямо на зрителей. Зал взят. Но это «нескромно» и не по системе — смотреть в зал. И снова Раневская вертит партнером, будто ищет точку, где сольются наконец две противоположности, и партнер станет залом — близким, послушным, а зал станет партнером — понимающим, реагирующим. Как живописец преодолевает плоскость полотна и создает перспективу картины, так Раневская зримо преодолевала условность театра в поиске секунды подлинного или, вернее, сверхподлинного момента жизни. У Грознова с Филицатой две небольшие сценки — во втором и в четвертом актах. Они старинные приятели, эти старые люди. Они заодно. Только Грозное «игрун» — может что-нибудь учудить и испортить все дело. С другой стороны, именно потому что «игрун» — на него вся надежда. Ведь только чем-нибудь невероятным можно прошибить хозяйку. Ее ни логика, ни мольба не убедят. Ее и «пушкой не прошибешь»... Сценки проходные, не нагружены острым конфликтом, поворотом сюжета. Это прелюдии к будущим событиям. Мы сидим с Раневской, разделенные столом. В комнате еще Зыбкина — владелица квартиры. Грозное чудит, интригует. То смирненьким старичком маразматиком себя явит, то вдруг ляпнет такое, что Зыбкина вздрогнет и напряжется. У Филицаты одна задача — не дать ему «разойтись», не дать до времени никому обнаружить, кто он таков на самом деле. Филицата смягчает его «ляпы», советует, как дальше действовать, деликатно внушает, наставляет, даже деньгами снабжает старика. Значит, действие — утихомиривать «взбрыки» Грознова и давать Зыбкиной приемлемое их объяснение — дескать, много пережил человек, многое совершил, чуть со странностями, конечно, но... бывает! Состояние Филицаты — тревога: как бы не лопнула вся затея. Это все Раневская играла. Это — «по задаче». А вот было еще нечто, идущее лично от нее. Тут-то и «изюминка». Она сама веселилась душой от этих «взбрыков». Ей самой очень хотелось что-нибудь учудить. Эх, текста для этого нет. Замечательную роль написал А. Н: Островский. Но не для Раневской. Ей бы Грознова играть! Вот тут бы она выдала, да жаль — роль мужская. Ну ладно, текста нет, но есть же интонация! Есть жест, есть глаза! Чудить — не чудила, а желание в них светилось. И так объемно все звучало, и с хитрецой, и с подколом, и по-доброму: «...вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам. У нас завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник у ворот сидят; поговорите с ними, позовите их в трактир, попотчуйте хорошенько! Своих-то денег вам тратить не к чему, да вы и не любите, я знаю; так вот вам на угощение!» И рублик шмяк на стол. Тот самый, что на мышьяк был дан. Вот он куда пойдет. «Расскажите, в каких вы стражениях стражались...». А Грозное глухим прикинулся, руку трубочкой к уху тянет (кстати, это мне Раневская предложила). Она наклонилась и уже с открытым смехом гаркнула: «В каких стражениях стражались!!!» — что ж ты, дескать, старый черт, совсем уж собственное геройство позабыл? В четвертом акте при открытии занавеса сцена пуста — никакой мебели. И стоят двое на пустой сцене — Грозное, в полной военной форме, при орденах, и Филицата. Стоят и смотрят друг на друга. И тут случались аплодисменты. Но другого рода, нежели первая овация. Здесь реакция ми на что» бывала лишь в том случае, когда накат спектакля вел к этому, когда к четвертому акту зрители оказывались по-настоящему втянутыми и в события, и в игру... Зал радовался — опять эта парочка, чего-нибудь да устроят! Вот это ощущение «парочки» — самое радостное из подаренных мне Раневской как партнеру. Мы прогуливались, взявшись за руки. Она толковала — где и что в доме расположено. Где что спрятано. И опять в маленькой сценке, в десятке небольших реплик, эта дивная смесь — и гордость за богатство и презрение к богатству. И обстоятельность и озорство. И какое-то неизвестно по каким причинам возникшее... кокетство, что ли? «Вот. Сила Ерофеич, я вам все наши покои показала; а теперь подождите в моей каморке!.. Когда нужно будет, я вас кликну». И подмигнула, и плечиком сделала... и ручкой! Руки Раневской. Морщинистые, сильные, мягкие, но не пухлые, обтянутые тонкой, как бы стеклянной пленкой кожи. Часто мерзнут эти руки. Даже когда жарко. Сидим в проходной комнате возле сцены. Идет спектакль. — Я простужена. Всем мешаю своим кашлем. Я кашляла на сцене. Зрители это слышали. Это ужасно. Я плохо играла. — Вы замечательно играли. Я знаю, что никогда нельзя соглашаться с самокритикой Раневской, даже если она настаивает. Этого она не прощает. — Плохо, плохо. Найдите другую актрису. Вы знаете, мне тяжело. Такая долгая зима. Я не выношу холода. Я ведь южанка. У нас в Таганроге зима была короткая. А здесь север. Я не могу привыкнуть за пятьдесят лет. И на сцене дует. Входит наш актер В.И. Демент, участник спектакля, цыган, замечательный гитарист. Он присаживается рядом и перебирает струны. Это случается частенько во время спектакля. Раневская любит гитару и цыганское пение. Демент тихо напевает. Раневская слушает. Молчит, печально глядя в пространство. — Спасибо, дорогой, спасибо! (Демент уходит на сцену.) Возьмите меня за руки. Чувствуете, какие холодные?.. Если бы вы знали, как мне страшно умереть. (Смотрит прямо в глаза. У меня захолонуло сердце.) Дверь открылась: — Приготовились, Фаина Георгиевна! Идет третий акт. Сумерки в доме. Близится тайное свидание молодых, устроенное Филицатой. И она тихонько топочет по комнатам — где хозяйка, где сынок, что делают? Не накрыли бы! Вошла... и замерла в полутьме. В другом углу почти невидимая хозяйка... к графинчику прикладывается. Хотела Филицата проскользнуть незаметно, но та окликнула. Я очень любил эту сцену Сошальской и Раневской. Барабошева выспрашивает слухи. И слухов много, и слухи все неприятные. Нянька выбалтывает помаленьку: сын пьет, деньги утекают... И присела нянька. Чего не присесть — сорок лет она в доме живет, когда-то с хозяйкой почти подругами были. Присела... Хозяйка заметила и так посмотрела, что поднялась старая нянька. И вдруг обидно ей стало. И тогда... мощно, грозно... пошла прямо на хозяйку. Га снова: «Еще чего не знаешь ли? Так уж говори кстати, благо начали!» Филицата молча идет, идет. И потом сильно, откровенно, уже ничего не боясь, не рассчитывая: «Платона даром обидели — вот что! Он хозяйскую пользу соблюдал и такие книги писал, что в них все одно что в зеркале, сейчас видно, кто и как сплутовал. За то и возненавидели». А тема-то запретная — и Платон и книги расчетные. И отрезала хозяйка. Рявкнула! Ушла. Филицата одна. Переминается с ноги на ногу. Дышит шумно. И вдруг... скроила гримасу — передразнила хозяйку — «у-те-те-те»... И плюнула! Плевок на сцене — трюк опасный. И грубо и избито. Но ведь вся штука — как сделать! Раневской можно. В сцене ночного свидания Раневская тоже пользовала трюки яркие, почти клоунские: вздроги, испуги, хватание за сердце, передразнивания. Я всегда наслаждался, глядя на стиль ее исполнения. Сами трюки виданы сотни раз — в цирке, в оперетте, в театре — хорошем и плохом. А Раневская все это видела (и делала, наверное!) тысячи раз в разных ролях. Прелесть заключалась в том, что она и не скрывала цитатности. Это были веселые воспоминания о том, как следует играть такой жанр. И в лучших спектаклях — совсем легко. Проходно, не задерживаясь, двигаясь к главному. А главное — нежная сцена с Поликсеной, последние наставления молодым. Тут любимая фраза Раневской, «зерно роли», по ее мнению: «Я рада для тебя в ни-и-иточку вытянуться». А потом пошло, покатилось. Молодых влюбленных накрыли. Шумно и страшно стало в саду и на всей барабошевской территории. Большим избиением, а то и убийством попахивает дело. Кинулась Поликсена на защиту любимого. Рискуя, сильно рискуя — ведь и ее не пощадят. У Филицаты в этой длинной сцене реплик нет. Думали — пусть отдыхает Фаина Георгиевна за кулисами. Не надо ей участвовать в этой сцене. — Это невозможно! Ее девочку дорогую так обижают, а она в это время за кулисами? Я буду на сцене. Она ж ее защитить хочет от этих зверей. Да нет — зверь так не поступит. Вы знаете, я люблю зверей больше, чем людей. Они несчастны и беззащитны. У них нет хитрости. Я не сплю уже много ночей и думаю о птицах. Как же им холодно и голодно. Соседи злятся на меня за то, что я приманиваю птиц. А они гадят. Птицы, конечно, а не соседи. Ну, конечно, гадят! А как же им быть? Я высыпаю по килограмму зерна в день на подоконник. И они едят без конца. А потом гадят. Но их невыносимо жалко. У них такие тонкие ноги. Ночью я не сплю и все время думаю, как холодно этим тонким ногам. Нет-нет! Нянька, конечно, прибежит за своей девочкой. Я буду участвовать в этой сцене. И выходила. И молча охала, и глаза наливались слезами — в толпе, на неосвещенном краю сада. Нет, это вовсе не буквоедство — мол, у Островского написано, значит, я обязана. Это и не дисциплина — дескать, покажу пример. Это исполнение морального долга. Она выходила в этой сцене и, почти невидимая, играла, переживала, тратила свои силы не для зрителей, не для примера коллегам, а для реальной Поликсены, как реальная любящая старуха Филицата. Сложен человек. Всякий сложен. Много намешано в человеке. Потому и интересен. Сплетаются биографические нити с генетическими. Сплетаются дурные и добрые побуждения. Спутываются ясные намерения ума с простыми требованиями жизни. Сердечный импульс дает толчок в одну сторону, а физиологический императив — в другую. Нити общественного долга и личного интереса стремятся к слиянию в красивый узор, а он порой оборачивается уродливым узлом. Но если внутри у большинства из нас замысловатый клубок нитей, то Раневская была соткана из морских канатов. Великолепна и красива ее сложность. И от крупности все противоречия ее личности воспринимались как гармоническая цельность. Редки такие люди. Так случилось, что многие годы она провела почти безвыходно в четырех стенах. Но сохранила острое любопытство к жизни во всех проявлениях: к политике, к психологии современного человека, к смешному, к людским слабостям, к новым книгам, к новым талантам. Едкая насмешливость при постоянно возвышенном складе ума и сердца. Не терпела «тонность» в общении, но при этом органически неприемлела малейшую фамильярность. Тяга к общению и потребность одиночества. Взрывы гнева и сентиментальность. Самоутверждение, обидчивость, подозрительность, и при этом — широта души, искренняя беспощадная самокритика, непостижимое умаление, даже уничижение своих достоинств, талантов (например, писательского дара). Безмерная печаль и могучий нутряной оптимизм. Жалостливая любовь ко всем людям и громогласный искренний патриотизм, безоговорочное предпочтение своих (во всем наше лучше!): русский язык, русский образ мыслей, русский стиль жизни, русские традиции. И еще: непреходящая гордость оттого, что она советская гражданка и советская актриса — по собственному выбору! Поступок совсем ранней юности. Вся семья эмигрировала после революции. Она — единственная из семьи осталась. С народом, со страной, с революцией, с русским театром. Так говорила Раневская — не с трибуны, не в интервью, а в своей комнате один на один среди разных других разговоров. Канаты, канаты сплелись в ней! Огромный масштаб. Карта в размер самой местности. Глубина памяти в размер века. — Я помню этот ужасный день. Мама вскрикнула в соседней комнате. Я вбежала. Мама, страшно бледная, лежала без сознания. На полу валялась газета, а в траурной рамке дорогое, любимое лицо. Лицо Чехова. В тот день я стала читать его «Скучную историю». Мне было восемь лет. Воже ты мой! — что тут еще скажешь? В жаркий июльский день 1984 года мы сидим в кухне у Раневской, завтракаем, говорим о нынешних делах театра, и вдруг она вспоминает впечатление от смерти Чехова — 1904 год! Боже ты мой! — У вас сегодня концерт? Бедный... Что же вы будете читать? — Сегодня поэзию. — П-о-эзию. Пожалуйста, не меняйте звук «о», не говорите его между «о» и «а». В этом слове «о» должно звучать совершенно определенно — пОэзия. Какую пОэзию? — Есенин, Мандельштам, Пастернак, переводы Цветаевой — в общем, классика XX века... — Ося... Боря... Марина... Всех знала. И они знали ее. Сколько было пережито вместе. И врозь. И беда друга больше, чем своя беда. А какие праздники были! Какие встречи после долгой разлуки! И размолвки были. И смешное было. Много смешного. В рассказах Раневской даже самые горькие, трагические эпизоды не только окрашены, но пронизаны юмором. Все подлинно, достоверно, душевно, но еще и обыграно. Как бы слушали Раневскую, как зачитывались бы ее воспоминаниями, хотя бы только из жгучего интереса ко всем этим именам. Даже сейчас, особенно сейчас, когда наконец-то их широко издают, когда, извлеченные из полузабвения, они становятся, признаемся, почти модой. А несколько лет назад каждое слово Раневской о них было бы воспринято как откровение. Ведь она их знала. И помнила. Почему же не рассказала людям? Опасалась? Может быть, отчасти и это, но главное в другом. Лень? О нет! Написано было много. Говорят, несколько толстых тетрадей. И уничтожено ею. Это она сама мне сказала. — Почему, Фаина Георгиевна? — Я не писатель. А потом... ведь стихи их остались. Вот пусть читают их стихи. Это лучше всего. Несколько страниц, написанных уже в последние годы, она дала мне прочесть (переписать не разрешила). Это была великолепная проза — сжатая, выразительная, глубокая и оригинальная. Потом сказала, что и эти листки разорвала. В другой раз — что отправила в ЦГАЛИ, в свой архив, хранящийся там. Может быть, там и прежние записи? — Ну, еще кого читаете в концерте? — Шекспира?!.. Я смотрю на Раневскую и чувствую, как волосы мои встают дыбом и голова туманится... Вот сейчас возьмет и скажет: «Виля!» Раневская поняла. Хохочет. — А знаете, вот к Пушкину у меня такое отношение, как будто мы можем еще встретиться или встречались когда-то. Меня врач спрашивает: «Как вы спите?» Я говорю: «Я сплю с Пушкиным». Он был шокирован. А правда — я читаю допоздна и почти всегда Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Тогда я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все помним его, как я живу им всю свою долгую жизнь... Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. В ее отношении к великим (в том числе к тем, кого она знала, с кем дружила) был особый оттенок — при всей любви — неприкосновенность. Не надо играть Пушкина. Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более петь, а тем более танцевать! И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило такта написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина. — Но тот же Булгаков написал «Мольера», где сам Мольер — главная роль. Отмалчивается, пропускает. Когда говорят, что поставлен спектакль о Блоке, балет по Чехову, играют переписку Тургенева, что читают со сцены письма Пушкина, она говорит: «Какая смелость! Я бы не решилась». И чувствуется, что не одобряет. Обожая Чайковского, к его операм на пушкинские сюжеты относится как к нравственной ошибке. Пушкин для нее вообще выше всех — во всех временах и во всех народах. Жалеет иностранцев, которые не могут читать Пушкина в подлиннике. Возможность ежедневно брать с полки томик с его стихами считает великим счастьем. Раневская болеет. На столике возле кровати том Маяковского. Раскрываю. Вижу ее крупный неровный почерк. И еще что-то другим почерком. Листаю — еще заметки, прямо на полях, с загибом вниз. Вот что там было: «Блистательной Фаине Георгиевне на память обо всех нас. Лиля. 2.3.48». Далее рука Фаины Георгиевны: «Сейчас мне сказала Людмила Толстая, что Лиля Брик приняла снотворное и не проснулась... 78 г. августа 8-ое число. Она знала, что я крепко люблю Маяковского...» На титуле: «Из моих любимейших. Раневская.». Среди текста книги, под стихотворением «Внимательное отношение к взяточникам»:
рукой Фаины Георгиевны: «Гений! Бедный мой». На последнем листе книги: «Такой мой, такой неземной, люблю, нестерпимо жалко. Люблю, жалею, тоскую по нем. Гений он скромный... Перечитываю. 83-й год». Взяв фамилию «Раневская» из «Вишневого сада», Фаина Георгиевна обладала некоторыми чертами чеховской героини — например расточительностью. Тратила не на себя! Она могла послать помогающую ей по хозяйству женщину за хлебом и за молоком и еще к директору гастронома — попросить для нее две дорогие коробки хороших конфет. Одна коробка тут же вручалась в благодарность за принос молока и хлеба, другая назавтра — медсестре, которая делает уколы. Все это кроме денежной платы. Но ведь каждый день так нельзя. Деньги утекали, как песок между пальцев. На продажу шли не просто дорогостоящие, но и дорогие сердцу картины. Постоянная забота — что подарить, чем отблагодарить. Щепетильность ее в долгах была невероятной. — Когда закончились съемки «Золушки», я сразу получила какую-то большую сумму денег. То есть не большую, деньги тогда были дешевы, а просто очень толстую пачку. Это было так непривычно. Так стыдно иметь большую пачку денег. Я пришла в театр и стала останавливать разных актеров. Вам не нужно ли штаны купить? Вот, возьмите денег на штаны. А вам материя не нужна? Возьмите денег! И как-то очень быстро раздала все. Тогда мне стало обидно, потому что мне тоже была нужна материя. И к тому же почему-то вышло так, что я раздала деньги совсем не тем, кому хотела, а самым несимпатичным. — В 46-м году мы были в Польше. Сразу после войны. Какая разруха, какой голод! Я проходила мимо рынка и увидела изможденную нестарую женщину, одетую ужасно. Она сжимала в руках что-то жалкое. Я подошла к ней. И она протянула мне этот непонятный жалкий сверток. Я вынула все деньги, которые были со мной, и попыталась ей вручить. Она отступила, подняла голову и сказала укоризненно: «Пани, я бедная, но я не нищая». — Раневская показывает с акцентом и с подробной передачей смен психологических состояний. — Как мне было стыдно и неловко, что я не могла ей помочь... Раздать все... Стыдиться денег в руках... Толстовство? Да, пожалуй, очень близко. И ее вегетарианство было, конечно, не только выполнением рекомендаций врача, но проявлением собственного ее мировоззрения. Мировоззрения очень определенного, в принципиальных вопросах — неколебимого. Но выражалось оно всегда артистично — либо в виде разыгрываемых «случаев», показа характеров, либо в виде формул, суждений, — как правило, в парадоксальной, шутливой форме. — Говорите, у него успех? Я рада. У него много успехов, и они ему нужны. Он талантливый... Очень! Но глубоко невежественный. Бедный! Бедный! — Много бегают актеры. Вы все работаете на износ, на полное стирание себя. Что? Раньше? Да, пожалуй, тоже бегали. Да, помню. Это правда. Но в провинции мы очень много работали в театре — ведь каждую неделю премьера. Каждую неделю! А в Москве — да! Халтурили артисты. (Смеется.) Эта «халтура» бывала высочайшим искусством. Но были концерты. Много. И кино. Мхатовцы много концертировали... Но это было голодное время. Вот я вам скажу, в чем беда современного театра... главная беда: халтурщиком стал зритель! Он позволяет актерам делать на сцене бог знает что и ходит в театр на что попало! — Я жалею иностранцев. Ну, во-первых, у них нет Пушкина... Это я уже вам говорила... а потом, они всегда стоят около гостиниц и так громко смеются... и у них такая гладкая кожа на лице... и волосы хорошо уложены... и главное, такой громкий смех, с открытым ртом: «А-ха-ха-ха!» Это ужасно — быть такими богатыми, такими беззаботными... это ужасно... так громко смеяться посреди города... бедные! бедные! Слово это у Раневской весьма многозначно. И вовсе не только жалость выражает оно. А еще, и очень часто, — отрицательную оценку, неприятие, неприязнь. В других случаях — наоборот, преклонение, еще в каких-то — родственность, полное понимание, единство. Все дело в интонации, в контексте. Что ж, на то она и актриса, на то и артистка. ...Развязка! Все тайны наружу. Поликсена заперта в своей комнате, и выхода ей оттуда назначено два — либо замуж по воле бабушки, либо в монастырь. По всему дому идет расправа. Пришла очередь и старой няньки. «Филицата!» — грозно окликнули из залы. Побежала, затрусила, переваливаясь уточкой: «Кому что, а уж мне будет». И поначалу на все окрики и риторические вопросы: «Как это ты не доглядела? Аль, может, и сама подвела?» — отвечает привычной полуправдой: дескать, «жалость меня взяла», думала, «поговорят с парнем, да и разойдутся», хотела как лучше, а вон что вышло — виновата! «— Ну, сбирайся. — Куда сбираться? — Со двора долой. В хорошем доме таких нельзя держать». Тут что-то случалось с глазами Раневской, что-то случалось со светом и с атмосферой на сцене. Не было ни вздрога, ни «аха». Вообще никакой реакции. Странный покой. А глаза смотрели с какой-то завораживающей... неопределенностью. Испуга нет, обиды... нет, гнева, упрека... мольбы — ничего нет. Спокойная задумчивость. И еще улыбка. Чуть-чуть. И тоже без выраженного состояния — и не насмешка, и не горечь, и не веселье. «— Во-о-от выдумала! А еще умной называешься... Сорок лет я в доме живу... — С летами ты, значит, глупеть стала. — Да и ты не поумнела, коли так нескладно говоришь...». Вместо привычного юления да поклонов Филицата всерьез обсуждает оскорбления, которые ей сыплют, и всерьез отвергает их. Отстраненность человека, перешедшего какую-то важную грань. «Кто ж за Поликсеной ходить-то будет? Да вы ее тут совсем уморите... Я вчера... у ней изо рта коробку со спичками выдернула... Нечто этим шутят?» Сошальская в роли Барабошевой находила в этой сцене по-настоящему суровые, даже жесткие краски. Никаких мелких эмоций по данному поводу, никаких «захлестов» или сказанного «в сердцах». Мавра решение принимала, как камень клала. Это философия, давшаяся суровым своим опытом и еще более суровыми опытами над другими. «Кто захочет что сделать над собой, так не остановишь. А надо всеми над нами бог... А тебя держать нельзя: ты больно жалостлива», — отрезала хозяйка. Вот так-то! Пусть слабый сгинет, пусть больной умрет. На все божья воля. Ни жалости, ни пощады! Нянька уловила эту ноту. Да, все всерьез. И Поликсене, как давеча Платону, «душу вынут», и старая нянька по миру пойдет. Филицата еще не знает, что сделает, но говорит, как никогда не говорила или десятки лет не говорила — подчеркнуто на ты, нисколько не угождая, не сердясь и не прося. Заговорила, как в вечность глядя. «Не к одной я к ней жалостлива, и к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлива. Вспомни молодость-то...». И дальше опять включается тема основной интриги пьесы. «А ты забыла, верно, как дружок-то твой вдруг налетел? Кто на часах-то стоял? Я от страху-то не меньше тебя тряслась всеми суставами, чтобы, муж его тут не захватил». Это возникновение из дальних времен фигуры Грознова, как молодца-удалъца, неожиданная материализация мифа о любви «первой красавицы в Москве» к лихому воину — все это забавно и снова в жанре комедии. Так и игралось. И зрители тут много смеялись. Однако раз приоткрывшаяся пропасть, бездна — не забывалась. Есть рубеж, за который нельзя перейти безнаказанно. Не знаю, имел ли в виду Островский такой оборот в этой сцене, но у Раневской он был. Был с первой читки и на всех репетициях. И на всех спектаклях. Для меня основная тональность спектакля строилась с учетом этой ноты — чисто трагической, найденной Раневской на самом раннем этапе работы. Именно от этой ноты не успокоительная точка ощущалась в названии, а все растущий вопросительный знак: «Правда — хорошо, а счастье лучше???» Неужто так? И во веки веков? И не соединить? И не выстоять правде против счастья? «— Солдатик этот бедненький давно помер на чужой стороне. — Ох, не жив ли?» А зрители-то Грознова уж во всех видах повидали! Во как закручено! «— Никак нельзя ему живым быть, потому я уж лет двадцать за упокой его души подаю: так нешто может это человек выдержать? — Бывает, что и выдерживают». Тут уж хохот в зале стоит, а то и аплодируют. «— Что я прежде и что теперь — большая разница; я теперь очень далека от всего этого и очень высока стала для вас, маленьких людей. — Ну, твое при тебе. — Так ты пустых речей не говори, а сбирайся-ка подобру-поздорову! Вот тебе три дня сроку!» Ну что ж? Может, это и сказка. И три дня, как из сказки. И мы, зрители, знаем, что Грозное сейчас явится из своего тайника и уж наверное сломает все железные решения хозяйки. И Филицату тогда оставят доживать жизнь в доме, а не выкинут на улицу. Может, сказка и с добрым концом. А может, и нет. Вот Раневская кинулась вслед за хозяйкой, а двери перед ней захлопнулись. Ткнулась. Отпрянула. Огляделась невидящими глазами. И стала бормотать: «Да я-то хоть сейчас... (это про уход). Поликсену только и жалко, а тебя-то, признаться, не очень... Сорок лет я в доме живу... сорок лет... Поликсену жалко... сорок лет... Поликсену жалко...» Все слова Островского... Все Филицатины. Все из этой сцены. Только повторены многократно и в том порядке и ритме, который импровизировался Раневской на каждом спектакле по-разному. «Жалко... Поликсену... А тебя, Мавра Тарасовна, не жалко... Но раньше — такая уж я от рождения — и к тебе была жалостлива, когда ты помоложе была». Вот сколько раз слово «жалость» варьируется! «Бедные! Бедные! Я их (его, ее, вас) жалею», — говорит Раневская в жизни. Но я уже отмечаю многозначность этого слова в ее устах. Та же многозначность звучала и на сцене. И кроме буквальной жалости через это слово прошли любовь, христианское прощение, непримиримость и даже приговор. Так актриса повела свою Филицату от благостности, от вполне возможной здесь условной сказочности к реальной психологической драме живого человека. И в том, как уходила Филицата после этой сцены, была драма одиночества, драма брошенности, драма человеческой неблагодарности. Потом будет еще встреча Мавры Тарасовны с Силой Грозновым. Будет финал, где полетит со своего поста злодей Мухояров и раздавлен будет сынок Амос, а Платоша и должность получит и Поликсену в жены — ну, как в сказке, все к одному. И будет «конгресс», где все персонажи рассядутся на праведный суд. И в центре все та же Мавра — непоколебимая и теперь уже праведная. А сбоку, последняя в ряду, Филицата — Раневская. Она помалкивает. И тоже вроде в «конгрессе» сидит. И ей тоже награда вышла — из дому не прогнали, доживать позволили. А ведь сделала-то все дело она! Грознова разыскала, Поликсену уберегла, Платона от тюрьмы спасла, все повернула она. По сказке, по веселой комедии — крутила добрая комическая старуха интригу и выкрутила. По жизни... а поглядите на Раневскую, сидящую сбоку. Вот и видно, что по жизни. В ней! В ней назревает последняя нота спектакля, ее последний уход. Как я виноват! Перед зрителями, перед памятью о Раневской. Телевидение решило снимать спектакль. Прямо из зала, по ходу. А я, как режиссер, возразил — качества не будет. Поговорил с Фаиной Георгиевной. Она, конечно, против. Для нее театр с камерами не совместим. Хотели снимать скрытой камерой. Но я-то знал, что много совсем темных сцен. Значит, надо будет добавить свет, и сильно добавить. Раневская заметит, разволнуется. И вообще — надо подготовиться, снять достойно. Отложили. Снимем осенью. Кто знал, что время уже отмерено, что не месяцами, а днями считать надо. Оправдания есть, а вина остается. Не сняли. Съемка была назначена на 19 мая 1982 года. И отменена. А спектакль шел. Это был страшный спектакль. С первой сцены она стала забывать текст. Совсем. Суфлируют из-за кулис — не слышит. Подсказывают партнеры — не воспринимает. Отмахивается. Мечется по сцене и не может ухватить нить. Вторая картина — совсем катастрофа. Мы сидим по двум сторонам стола. Сколько раз уж это было! Ну, случалось, и забывалось что-то. По был уговор: в этом случае Грозное сам намекнет на то, что должна посоветовать ему Филицата. Если пауза затянется, Грозное повернется к няньке и скажет громко: «Я, отдохнувши, сегодня же понаведаюсь к воротам!» — и подымет средний палец, как восклицательный знак. А Филицата встрепенется, шумно втянет воздух и, весело сверкая глазами, не спеша, подробно, звучно: «Да-а-а! Вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам!» И если этим не кончилось — ну что ж, поехали дальше. Грозное как бы вспомнит: «У вас там всегда либо дворник, либо садовник сидит?!» А Филицата: «Вот-вот... у нас завсегда либо дворник, либо кучер (интонация подчеркивает — кучера пропустил, Островского точно говорить надо), либо садовник у ворот сидят». Думаете, скучно было два раза один и тот же текст слушать? Да нисколько! Когда такой казус случался при хорошем настроении — только сверкало все. Раневская так лихо, так красиво и смачно выкладывала интонацию при повторе текста! И еще глазами намекала (а потом за кулисами и говорила): «Вот как славно под суфлера-то играть. Зубрить текст — дело, конечно, святое, но все же не главное. Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Подать текст зрителю! Суфлер должен подать текст актеру, а актер — зрителю. Вот театр! Только это уметь надо». Раневская — умела. Когда случались такие диалоги-подсказки, весело бывало. И Талина Костырева — третья наша партнерша по этой сцене — сидит, улыбается счастливо. И по залу ходят волны доброжелательного тепла. А память что — память слабеет с годами. Вот душа не слабеет. Не должна слабеть, если сам ее не слишком изнашиваешь. Раневскую всегда смешило излишнее восхищение чисто техническими, легко поддающимися анализу сторонами актерского дела. — Вася Качалов обожал читать наизусть. Вы не подумайте, я не из фамильярности зову его Васей — это он настаивал. Почему-то стеснялся, если звали Василием Ивановичем... Читать обожал. Это было трогательно, но иногда мучительно — он слишком много знал наизусть. И вот идет концерт. Публика в восторге. Зал рукоплещет. Качалов читает еще, еще... Финал. За кулисы врывается человек, подбегает к Качалову и падает перед ним на колени, руки в стороны и кричит: «Какая память!» — Раневская смеется. — Какая память — вот и все, что он оценил. — Ко мне после спектакля «Дальше — тишина» входит пожилой такой, сверхинтеллигентный театрал. Голова слегка трясется. А я усталая, еле дышу. Он говорит: «Великолепно, великолепно! Извините, ради бога, но сколько вам лет?» А я говорю: «В субботу сто пятнадцать». Он: «Великолепно! В такие годы и так играть!» Смеется, смеется Раневская. Но в тот вечер — 19 мая — все было не так. Не забывчивость, не выпадение куска текста из памяти, а какой-то общий кризис. Кричат, повторяют — нет, не слышит, не воспринимает, не может ухватить нить действия. Начнет говорить и мучительно заикается на одном слоге. И мечется — к кулисам и обратно, к кулисам и обратно. И такая мука в глазах, такая затравленность — будто материализация страшных предпремьерных снов-кошмаров, которые знает каждый актер. При полном зрительном зале позабыто все, ты лишился всех своих умений, всех знаний. Ты беспомощен, и тысячи глаз наблюдают твою беспомощность и ждут от тебя чего-то. Мы все, участники спектакля, были пронизаны этим кошмаром Раневской. Каково же было ей?! Что делать? Несколько раз я уже решал закрыть занавес и прервать спектакль. Но тогда — скандал! Тогда признать, что все это не просто накладку, ошибки, а катастрофа, и тем, может быть, еще более ранить Раневскую. Кончилась ее сцена. Почти ничего не произнеся, она уходит, с трудом передвигая ноги. Мы с Костыревой играем дальше. Но играем как автоматы. Наше внимание, наш слух — всё там, за кулисами. Слышим, как кинулись к Фаине Георгиевне, как она глухо то ли плачет, то ли стонет... Дотянули до антракта. Раневская всех ругает. Одних за то, что тихо подсказывали. Меня за то, что слишком явно подавал текст и тем выдал ее зрителям. Потом утихает. Молчит. Ей плохо — это видно. Нельзя продолжать спектакль. Антракт все тянется. Но последнее слово — стоп, хватит — сказать не решаюсь. Да и кто бы решился? К Раневской подошли Демент и Морозов с гитарами. Слышу — тихонько поют... Вот и Раневская присоединила свой голос. Поют. Потом слышны ее рыдания. И опять гитара. Я не зашел к ней. Рискнем. «Начинайте акт, Галя», — говорю я помрежу Ванюшкиной. Когда наступил момент выхода Фаины Георгиевны, всех нас буквально трясло от волнения и тревоги. «Амос Панфилыч давно уехал?» — спрашивает Мавра. «Да он, матушка, дома... Что человека из дому-то гонит? Отвага. А ежели отваги нет, ну и сидит дома...». Голос Раневской звучит ясно. Никаких заиканий. Так плавно, мощно, как будто и не было кошмара первого акта. «— Куда ж это его отвага девалась?.. — Одно дело, что прохарчился, матушка». Идет, идет! Да не просто идет, а как-то небывало вольно, динамично... Сцена с Маврой Тарасовной, беседка (диалог с Баранцевым — весело, озорно, несколько раз публика аплодирует по ходу сцены), проход с Грозновым (отлично — легкость, темп; только когда идем, взявшись за руки, в глубину и зрители не видят, шепнула: «Я так устала, так устала»), сцена изгнания с Сошальской — блестяще. У меня нет доказательств, но поверьте — во втором акте 19 мая необыкновенная Раневская была необыкновенней самой себя. Может быть, так казалось по контрасту с первым актом. Может быть, мы просто все были счастливы, видя, что Фаина Георгиевна воспряла духом. Но и актеры, и техники театра, и зрители испытывали подъем, счастливое единение, несравненное чувство миновавшей опасности. А Раневская купалась и творила в волнах любви и доброжелательства. Если бы этот спектакль... Я опять про телевидение... Если бы шла съемка, то и теперь можно было бы, увидеть жесточайший кризис великой актрисы и ее воскресение. Это было бы великой школой и профессиональным уроком. Но может быть и другое: при съемке и добавочном свете вообще все пошло бы иначе. Не было бы кризиса. Не было бы и такого взлета. Или не смогла бы выйти из кризиса из-за обилия добавочных раздражителей. Ничего нельзя проверить. Все бывает лишь так, как оно было. И в жизни и на сцене. Тот вечер не запечатлен на пленке, не записан. Все это осталось только в памяти живых свидетелей. Незабываемая мимолетность, более всего отражавшая Раневскую, царствовала и здесь. Была овация. Были общие поклоны. Был сольный выход Раневской вперед — как всегда, и взрыв рукоплесканий — как всегда. И цветы. И наши, партнерские аплодисменты ей, и ее кокетливое удивление — мне? такой успех? за что?.. И общий выход к самой рампе, взявшись за руки... как всегда. Я чувствую, как она тяжело опирается на мою руку и шепчет: «Больше не могу, больше не смогу»... Все почти как всегда. Но казалось (или на самом деле так было?), что мы переживаем необыкновенные минуты, редкие мгновения Театра с большой буквы, победу духа в искусстве. В роли Филицаты Раневская на сцену больше не вышла. Еще один раз она играла спектакль «Дальше — тишина». Он был последний в ее жизни. Болезнь усиливалась. Порой ослабевала, но не оставляла. — Я должна уйти из театра. Я же не играю. Не имею права получать деньги. Я больше не смогу играть. Иногда говорила иначе: — Неужели театр не заинтересован, чтобы я играла? Публика ждет. Я получаю бесконечное количество писем. Они хотят меня видеть. Найдите пьесу. Неужели вам нечего мне предложить? И снова, как перед началом работы над Островским, мы перебираем множество имен и названий. Но сил все меньше. В реальность осуществления мы, кажется, оба уже не верим. Однажды еще полыхнула надежда. Прислали переводную пьесу «Смех лангусты»: последние дни жизни Сары Бернар. Действуют она и ее секретарь. Великая актриса не может передвигаться, сидит в кресле. Перебирает, перечитывает дневники, записи. Вспоминает. Пьеса сильная. С достаточным, правда, привкусом коммерции, с учетом современной моды. Но это пустяки. Главное есть — хорошо написанная роль, в которой можно почти не вставать с места, не учить текста, иметь суфлера и... рассказать, пережить заново жизнь актрисы. Голь для Раневской. Она прочла. На следующий день позвонила — нравится! — Нравится. Боюсь только, хватит ли сил... Пьеса хорошая. Но я ведь уже написала заявление. Вы знаете, я собираюсь уходить из театра. Я давно ничего не играю. — Вас не отпустит театр. Заявление вам вернут. А вот и роль. И сделать надо на Малой сцене. Тогда можно все осуществить без задержек. Никаких декораций. Сто двадцать зрителей — все-таки поменьше надо сил, чем на тысячу двести человек. — Да. Я подумаю. Название странное — что такое «лангуста»? Это ведь что-то вроде омара. Это животное из моря. Неужели оно смеется? Этого не может быть. Когда же лангуст смеется? Надо изменить название. Через день по телефону: — Я не буду играть. Я видела Сару Бернар на сцене. Очень давно. Я не смею ее играть. Это... это... только нахал мог написать пьесу о великой Саре Бернар. Но я не нахалка. Не буду играть. — Гак другие сыграют, Фаина Георгиевна! И не задумаются. Но вы-то в этой роли сможете высказаться как никто. И о Саре Бернар вспомнить и о себе рассказать. Это свобода, которую только вы сможете использовать на высшем и благороднейшем уровне. После паузы: — Никто не посмеет ее играть. — Посмеют. — Ну, значит, есть смелость. Значит, нет никаких запретов. Бедные, бедные. Я играть не буду. Юнгер мне тоже хвалила эту пьесу. Давайте ей отошлем перевод. Пусть она сыграет. Она славная. Я люблю ее... Но неужели решится? Бедная... ...Было очень холодно и скользко, когда мы с Ниной Станиславовной Сухоцкой медленно двигались к дальнему зданию Кунцевской больницы. К Раневской. Сухоцкая — режиссер, деятель театра, в прошлом сотрудница Таирова — наверное, самая близкая подруга Раневской многих последних лет, заботливая, всезнающая, всепрощающая. Врачи сказали категорично — инфаркт. Раневская упрямо не хотела в больницу. — Быть дома! С моей собакой. Никакой больницы. Я не поеду. Нина Станиславовна организовала ночные дежурства сестер на дому, друзья и сама Сухоцкая дежурили днем. Но Раневская задаривала ночных сестер конфетами, подарками за одну услугу — уйти, оставить ее. Она не терпит беспомощности, Раневская! Она готова скорее действительно оказаться без всякой помощи, чем ощутить собственную неполноценность через хлопотание других. Прекрасная гордость великой актрисы! Прекрасная-то прекрасная, а на деле как быть? Что делать? Инфаркт у человека. И много лет этому человеку... Раневская лежит неподвижно. Только тяжелое дыхание. И глаза... то полуприкрытые веками, тускнеющие, то вдруг остро сверкающие смесью полного понимания и юмора. И все-таки ей очень плохо. Б больничной палате нависла тоска. Об этом и говорит Фаина Георгиевна. Потом долго тяжело дышит. Вдруг: — Хотите я спою? — Тяжелое дыхание. — Это старая песня. Я люблю ее. — Тяжелое дыхание. Пауза. Голос. Негромкий, но полнозвучный, как на сцене, медленно, с большими остановками после каждой строки:
Слезы медленно поползли по ее щекам. Глаза закрыты. Губы вздрагивают.
В палате тишина и неподвижность. Только потрескивает прибор, на экранчике которого зеленой волной бесконечно вычерчивается ритм сердца Раневской. Бежать за врачом? Давить на кнопку тревоги? Позвать ее, Фаину Георгиевну, из ее забытья... или... Глаза открылись. В них нет слез: — Вам понравилось, как я это спела? Да, получилось. Но вы не слышали настоящего исполнения. Ах, как цыганка одна пела это! Никогда не забуду. С таким подъемом и с такой печалью... С высоко поднятой печалью. Но я тоже спела неплохо, правда? Знаете почему? Потому что люблю этот романс. Его надо петь каждый раз, как в последний раз. Или как в первый. В этом и есть тайна исполнения. Конечно, правильно, что в нашем спектакле финал отдан Филицате. Да — Раневской, любимейшей, популярной, несравненной артистке. Но не только Раневской — еще и ее Филицате, такой, какою она создала ее. Идет «конгресс». Идет суд Мавры Тарасовны, идет перераспределение благ. Платон — он хорош, мил, честен, но... забывчив. Забыл он кошмар прошлой ночи, когда «душу вынули», когда холодно составили план расправы над ним, над его Поликсеной, над их любовью. Теперь хозяйка его, Платона, вознесла в главные приказчики! А бывшие верха — тестюшка Амос и «химик» Никандра свергнуты. За теми же заборами да при тех же порядках поменяли их местами. И кричит забывчивый Платон: «Вот она, правда-то, бабушка!» А Филицата молчит. Обнимает любимицу свою Поликсену да котенка поглаживает. Потом и Поликсена уйдет — к центру, к Мавре Тарасовне, — там уж и руки ей с Платоном соеднияют. Этого-то и хотела Филицата, за это-то и боролась. Этому и радуется — одна, сбоку. И еще крикнет Грознову: «Ну-ко, служивый, поздравь нас!» — нас поздравь, общий праздник. Грянули хором:
И тут Филицата встала... пошла к Поликсене, обняла... потом дальше пошла, дальше... от нас, в глубину, туда, где открылись за заборами другие заборы, церкви, сады Замоскворечья... Поет:
Все фигуры на первом плане неподвижны и почти не освещены. А Филицата все движется уточкой на освещенной части сцены, поет и уходит, уходит от нас, пока занавес не закроет всю картину. Реальный уход Филицаты из дому? Или ее душевная тоска, сон об уходе? Или просто песня с приплясом на широком дворе? Или уход-умирание: прощение, любовь и непримиримость, и высочайшее чувство морального идеала. Безмерная печаль и искренняя улыбка. Все вместе. Так умела играть Раневская. ...А болезнь прошла. Почти. Пришла другая. И снова прошла. И опять лето. В жаркое солнечное утро завтракаем у нее на кухне. Фаина Георгиевна оживлена, шутлива: — Ешьте, вы мало едите. Вот творог. Хотите я вас научу делать творог? Он страшно полезный. Я сама его делаю. Если бы вы знали, как он мне надоел. Не ешьте творог, ешьте нормальную пищу. Погладьте моего Мальчика, видите, как он смотрит на вас. Не смей так смотреть! Иди ко мне! Вот тебе, ты любишь это... не ест! Какая наглость!.. Ну, ляг здесь, мой хороший... Вы знаете, как он переживал, когда я болела! Он так страдал за меня! Ночью я упала и не могла подняться. И некого позвать... надо терпеть до утра... а он пришел, стоит рядом и страдает... Я люблю его... у меня ведь нет детей... его подобрали на улице... избитого, с переломанной лапой... Он понимает, что я спасла его... А если я умру, что с ним будет? Он пропадет. Он понимает это и поэтому желает мне здоровья. Нет... нет, нет... он просто меня любит... как я его... Хотите я расскажу вам о Давыдове? О Павле Леонтьевне Вульф... Вы ешьте, ешьте, это хороший сыр... мне его достали... давайте выпьем кофе... да... о чем я хотела рассказать? Вы знаете, я странная старая актриса. Я не помню моих воспоминаний. Раневская смеется. Каждая встреча с ней, а их немало было за эти годы, отпечаталась в памяти. Ее личность, ее жизнь, ее влияние — драгоценны. Помню, как она молчаливо велела не прикасаться к великому, не ворошить, оставить целостным, нетронутым. Она и сама великая и не захотела рассказать о себе. Помню об этом. И все же рассказал, не мог не рассказать. Я знаю немногое из ее огромной жизни. Кто знает больше, пусть расскажет больше. Кто сможет, пусть промолчит и тем лучше исполнит ее невысказанную волю. * * * Юрский С. Кто держит паузу. М., 1989. Фаина Георгиевна спросила меня по телефону: — Вы помните пьесу Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше»? — Конечно. — Хорошо помните? — Ну, в общем... — Я замялся. Я считал себя знатоком Островского. [...] — Ну, в общем, что-то не очень... хотя... — Приезжайте ко мне и возьмите книжку, она у меня в руках. Вот это я и хочу сыграть. [...] Я взяла пьесу в библиотеке, мне ее оттуда принесли, и я влюбилась в нее. Прочитайте, это Прелесть. [...] [...] ...вдруг такой восторг Раневской. А увлечь Раневскую не так просто. Скажу определеннее: крайне трудно. Скажу прямо: почти невозможно. Десять лет со времени постановки пьесы «Дальше — тишина» наша выдающаяся актриса не сыграла ни одной новой роли. Ей слали пьесы и предложения десятками, она их отвергала. В последние годы она окончательно заперлась в своей квартире, одна, среди множества фотографий ушедших друзей на стенах, среди неорганизованного быта, в не всегда прибранных комнатах, по которым, тяжело ступая и тяжело дыша, бродит пес Мальчик — подобранная ею когда-то непородистая большая собака. Впрочем, «заперлась» — слово неверное. Дверь квартиры всегда распахнута — входи кто хочет, потому что Мальчику нужен воздух, и если дверь закрыта, он нервничает и лает. Лает без конца. Дверь распахнута, и по квартире гуляют сквозняки. Ф. Г. сидит на кухне в своем старом халате и слушает по радио Рихтера. [...] Она бывала у него на концертах, а он — у нее на спектаклях. Она вызывала восторг у самых выдающихся художников нашего века — Пастернака, Ахматовой, Шостаковича, Качалова, Охлопкова, Ромма... и еще очень многих и не менее выдающихся. Теперь она не выходит. Только в театр на спектакль «Дальше — тишина», три-четыре раза в месяц. Ф. Г. сидит у себя в гостиной и читает. Читает новую книгу Лакшина, присланную им. Читает Михаила Чехова, Овидия. Читает Экзюпери по-французски. Но чаще всего читает Пушкина. Один из томиков всегда под руками. [...] И вдруг... этот телефонный разговор. Дело было в конце июня 1979 года. [...] На следующий день я привез пьесу Ф.Г. (маленькая книжечка «Библиотеки школьника»). — Мне понравилось. Хорошая пьеса. Я бы попробовал ее поставить. — Нет, не надо, — сказала Раневская обиженно. — Не надо вам ставить. — Почему? — Да потому, что она вас не тронула. [...] — А что касается роли, — продолжаю я, — то уверен, что выбор замечательный и Мавру Барабошеву вы сыграете великолепно. — Голубчик, я не собираюсь ее играть... — ??? — Вы ничего не поняли, — опять обижается Раневская. — Я Филицату должна играть, добрую няньку Филицату. — Как! Но Мавра — это же великая роль. Определяющая. Там столько заложено. Страшный и сильный характер. — Вот и не надо мне страшного. Я хочу сыграть добрую. Я столько уродов сыграла. Я хочу хорошего человека играть. — Но ведь Филицата — совсем не главная роль. — А мне и не надо главной. Вы забываете, сколько мне лет. [...] Ф. Г. приехала раньше всех. Театр ходил ходуном. [...] Я с изумлением вижу: Раневская волнуется. Все эти шутки, игра в неузнавание (а мне кажется, это процентов на семьдесят игра) — прикрытие волнения. И мы волнуемся. Я говорю вступительную речь. Потом мы читаем пьесу. Раневская читает звучно, сочно. Текст звучит, льется. Слова крупны. Она выступает в поддержку моего замысла. Говорит, что увлечена. Призывает всех к серьезности и самоотдаче. — Я хотела поддержать вас, — говорит она мне на другой день один на один у себя дома, — на самом деле я просто страшно устала. Вы, наверное, опять забыли, что я нездорова. У вас плохая память, бедный. Вы знаете, как я вас про себя называю? Усталый юноша. А я усталая бабушка. Я ведь не репетировала десять лет. Я старая провинциальная актриса. Я столько переиграла. Почему же я так волнуюсь? Нет, я не самоуверенна. А если будет провал? Вдруг будет скучно? — Нет, Фаина Георгиевна, не будет. Даже думать об этом не смейте. — Ну хорошо, мы будем работать. Но я устала. Десять лет я не была на репетиции. Как же быть? Вы знаете, мы будем репетировать у меня дома. Нет сил. [...] Раневская выходит на середину зала. И начался небывалый концерт. Она вспоминала великих актрис, которых видела. Не просто вспомнила, но показывала. Вот Сара Бернар. И звучно полились французские стихи в чарующей интонации. Вот Ермолова, мучительно переживающая свое несовершенство после гигантского успеха. Раневская показывает Комиссаржевскую в «Иванове», пересказывая и оживляя впечатление П.Л. Вульф. Показывает Савину. — Фаина Георгиевна, сядьте, вот кресло. — Нет, нет. Я помню Таирова в лучшие его годы. Она рассказывает о своей первой роли у Таирова. Она играла драматическую судьбу проститутки. В главной сцене она позволила себе в монологе вольную и рискованную импровизацию. Зал замер. Потом овация. А она замерла: как отнесется к этому режиссер — ведь это дебют. Быть или не быть ей в театре. [...] Оживают люди — в подробностях, деталях, недоступных живописцу, доступных только актеру: в динамике, в движении. [...] Даже ради только одного такого всплеска таланта Раневской стоило затевать наш спектакль. |
|
Главная Ресурсы Обратная связь
© 2025 Фаина Раневская.
|